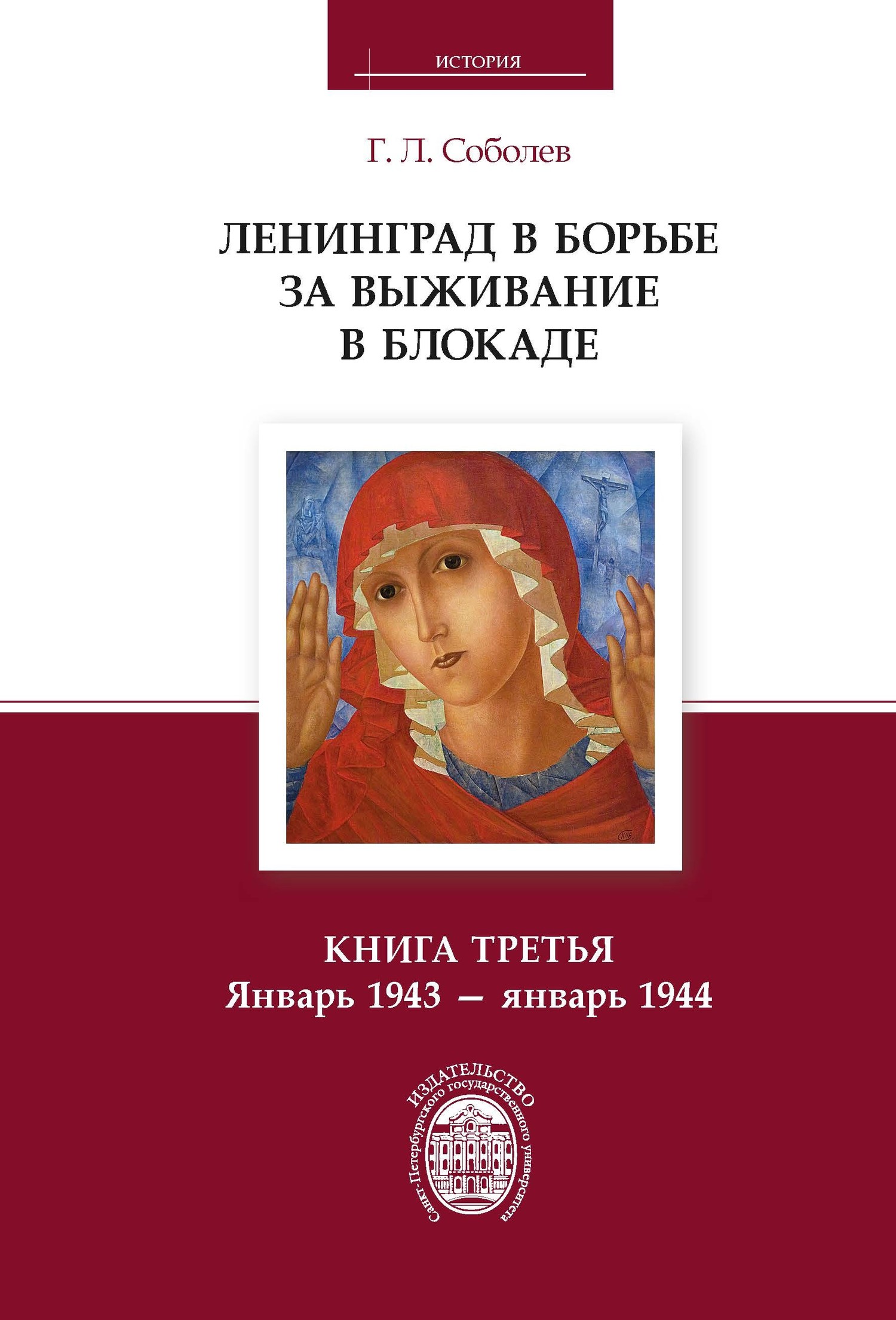Шрифт:
Закладка:
В тишине было слышно, как где-то над головой тонкой ниточкой струится вода, и каждый в который уже раз представлял себе «Линзу» — узкую, метров семь длиной, трещину. Она изгибалась в трех плоскостях и давала скупую возможность прохода только в срединном положении. Там, в ее каменных тисках, безнадежно и застрял Рыбкин, застрял нелепо, ни туда ни сюда. И прошло уже слишком много времени, как он не подавал признаков жизни, закупорив своим затянутым в «гидру» телом этот единственно возможный из пещеры выход.
Но молчать было еще хуже. Казалось, еще немного… и все начнут незаметно сходить с ума.
— Закурить бы! — первым подал голос Чернов.
— Курить — здоровью вредить, — вяло отозвался Хавер. — А вот пожевать я бы не отказался. У нас там больше ничего…
Ему даже и отвечать никто не стал — последний НЗ разделили еще в «обвальном» зале. Осталась только порция Рыбкина: кубик сыра, граммов пятьдесят халвы да раскрошенный сухарь, и если Хавер имел в виду это, — значит, тоже не сомневается… Может, и в самом деле настало время разделить долю Рыбкина… Тогда все поймут, что и ты… Нет, нельзя, надо как можно дольше продержаться. Зачем?.. Ты и сам не смог бы сказать, зачем, просто в данной ситуации это, пожалуй, единственный выход — ждать. Потом… кто-кто, а ты слишком хорошо знаешь, что будет потом. Сколько раз сам участвовал в спасательных экспедициях… Наверное, это совсем не больно. Все равно что уснуть… Скоро от холода захочется спать. Словом, остальное вопрос времени… Тогда, кажется, у Милки и началась истерика…
— Эх вы! Мужики, называется! Не могут что-нибудь придумать!.. Я замерзаю… Я чувствую, как медленно замерзаю… У меня уже перестали сохнуть руки!.. А они все сидят, ждут… ждут, пока… А что ждать?.. О нас же никто не знает! Слышите, вы!.. Никто!..
И Милка тоненько, почти неслышно заплакала. По опыту ты знал, что успокаивать бессмысленно. В такие минуты малейшая жалость способна довести ее до бешенства.
— Теперь мне понятно, почему раньше бабу на корабле считали дурным знаком, — еще подлил масла в огонь Чернов.
От этих слов Милка прекратила нытье. Словно выдохлась. Или собиралась с новыми силами. На самом деле это злость высушила все слезы. Слез не было… была пустота. И в этой одуряющей пустоте, как птица о стекло, билась мысль. Сперва не мысль, а лишь предчувствие… что вот сейчас, именно сейчас, через секунду-другую придет объяснение всего этого промозглого кошмара ночи. Оттого и легкость возникла необыкновенная. Будто «гидру» со сморщенной внутри Милкой надули воздухом… Будто и самой Милки нет… осталась только мысль… Всего какой-то час назад она показалась бы Милке до абсурда дикой, а сейчас — ничего, встретила спокойно, даже слишком спокойно, словно все уже произошло… свершилось… Ведь ее, Милки, в сущности, уже нет… или почти нет… скоро их всех окончательно поглотит ночь, и теперь о каждом можно говорить все, даже самое-самое… о чем и думать себе обычно не позволяешь… Потому что, когда о подобном начинаешь думать, но не говорить, — становишься как бы соучастницей… Почти как в жизни… когда знаешь, что этот милый с виду человек преступник… и все знают, а не говорят… И ты не говоришь… Даже как бы привыкаешь… сосуществовать… со всеми этими мерзавцами, подонками, преступниками, у которых хватает совести честно смотреть в глаза… Словно догадываются, что о них знаешь, что все о них знают, а вот высказать в лицо, в глаза… Деликатно так стараются не замечать, точно всего этого не существует и не происходит, а если и происходит, то, слава богу, не с тобой, не с твоими близкими, но рано или поздно может наступить и твой черед…
Она могла бы сказать Хаверу, а значит, и Чернову… Какие они и в самом деле подонки… Той ночью убили жеребенка… Хавер убил, Чернов освежевал… перед спуском оставили в «бобах» замачиваться мясо. На шашлык. Самый вкусный шашлык на свете из нежного мяса жеребенка… И все ели… И она, Милка, тоже… Делая вид, что не догадывается… не соучаствует…
Она могла бы высказать Андрону… какой он… нежный… и жестокий одновременно… В горах был всегда с ней, а дома женился на другой… Потом, что называется от греха подальше, передал ее Торопуше, у которого к тому времени, правда, уже была жена и вот-вот должен был родиться ребенок, но Торопуша принял ее как должное… а она не сказала «нет»… В этом смысле она — как кошка… Чуть-чуть погладит кто… или там спьяну приласкает… Может, в ней и в самом деле каких-то гормонов не хватает или просто уже пора заводить семью, но все почему-то спать-то с ней спят, а заводят семьи с другими. До чего даже додумались подлецы: составили что-то вроде графика, кто будет с ней в очередном походе… Словно она безответная подстилка, если не сказать больше… А сказать больше — даже язык не поворачивается… потому что без этого уже не может… Вот и таскается с мужиками по горам. И надо же было такому случиться, что последним был именно Рыбкин, несчастный недотрога Рыбкин, который, в отличие от всех этих скотов, оказался человеком и даже обещал жениться, но сколько раз она убеждалась, что слова, сказанные в горах, по возвращении на «землю» теряли смысл, словно там, среди людей, другие законы и слова, которых она, Милка, или не знала, или ей еще не довелось узнать (а скорее всего она и не слишком этого хотела), и сейчас, в эту самую минуту, они вдруг открылись ей с самой неприглядной стороны…
А до Рыбкина она была с «дедом», Олегом Сергеевичем, у которого, к сожалению, тоже и жена, и дети, но, во‑первых, она видела его жену, во‑вторых, она, Милка, на десять лет моложе, и казалось, что все еще только начинается, а в итоге и Олег Сергеевич для нее теперь — лишь шлак, отработанный материал… И нужно, наверное, просто жить, не требуя от жизни многого… Жить сегодня и сейчас… с любым из этих грубоватых с виду парней, готовых проявить к ней нежность под расслабляющий звук гитары у костра и хрипловатые песни, когда в завораживающем танце скачут огненные зайчики на словно окаменевших лицах, и обступают темные контуры гор, и странный комок в горле, и припухшие от поцелуев губы… По крайней мере, это было всегда искренне… Ни звезды, ни горы не выносят фальши… А она,
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)